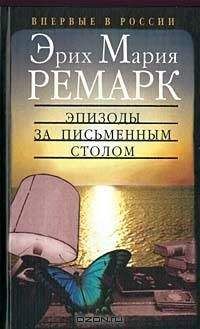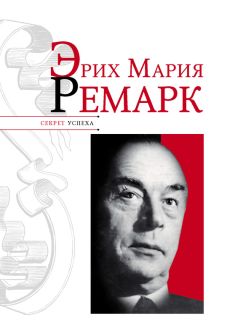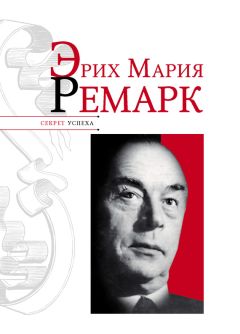Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]
— Ты ведь не Рут! Скажи, как меня звать!
— Тссс! Тише! Бросай!
— Как меня звать? Как меня звать?
Тень не отвечала.
— Это мясо было для Рут! Для Рут! — шептал Бухер. — Отдай его ей! Ты поняла? Отдай его ей!
— Да, да. У тебя еще есть?
— Нет. Отдай его ей! Это — ее! слышишь? Ее, а не твое!
— Да, конечно!
— Отдай его ей. Или… или я…
Бухер не договорил. Что он, в самом деле, мог сделать? Он знал, что тень давно уже проглотила мясо. Словно сбитый ударом невидимого кулака, он в отчаянии повалился на землю.
— Ты… ты… подлая тварь! Чтоб ты сдохла!.. Чтоб ты подавилась этим мясом!
Это было слишком — после стольких месяцев первый раз получить кусок мяса и так по-идиотски прошляпить его! Он всхлипывал без слез.
Тень шептала ему из-за забора:
— Дай еще! А я тебе кое-что покажу… Смотри!
Она подняла юбку. А может быть, это ему померещилось — белесая зыбь тумана искажала все движения, и женская фигура за колючей проволокой стала вдруг похожа на нелепое, фантастическое животное, ни с того, ни с сего пустившееся в пляс.
— Стерва!.. — шепотом твердил Бухер. — Стерва!… Чтоб ты сдохла! Идиот! Боже, какой я идиот!..
Ему надо было удостовериться в том, что это Рут, прежде чем бросить мясо, или подождать, пока рассеется туман. Но тогда он, возможно, не выдержал бы и сам съел мясо. Он хотел как можно скорее отдать его Рут. Туман показался ему неожиданной удачей. И вот — он стонал и в отчаянии молотил кулаками по земле.
— Идиот! Что же я наделал!
Кусок мяса означал кусок жизни. Ему хотелось теперь громко кричать от горя.
Проснувшись от холода, он поплелся обратно. Перед самым бараком он споткнулся о чье-то тело, упал и тут только заметил 509-го.
— Кто это лежит здесь? Вестхоф? — спросил он.
— Да.
— Умер?
— Да.
Бухер наклонился и посмотрел на Вестхофа. На влажном от тумана лице были видны темные пятна — следы ударов, оставленные сапогами Хандке. При виде этого лица он опять вспомнил о потерянном куске мяса. Ему вдруг показалось, что между этими двумя событиями есть какая-то связь.
— Черт возьми! — сказал он. — Почему мы ему не помогли?
509-й поднял голову.
— Что за чушь ты несешь? Разве мы могли что-нибудь сделать?
— Могли. Наверное. Почему бы и нет? Мы смогли и не такое.
509-й не ответил. Бухер опустился рядом с ним на землю.
— Мы вырвались из лап Вебера… — добавил он.
509-й молча смотрел в туман. «Вот оно! — думал он. — Опять!.. Дурацкий героизм. Старая песня. Этот мальчик впервые за столько лет, с отчаянием затравленного зверя, бросил вызов своим мучителям, чудом остался жив, — и вот через день фантазия уже водит его за нос, подсовывая ему романтические картины, из-за которых он совершенно забывает об осторожности.»
— Ты думаешь, что если нас не прикончил сам лагерфюрер, то уж какого-то пьяного старосту блока нам и подавно нечего бояться, да?
— Да. А разве не так?
— И что же, по-твоему, мы должны были сделать?
— Не знаю. Что-нибудь. Но только не стоять и не смотреть, как он спокойно убивает Вестхофа.
— Да, мы могли броситься на Хандке вшестером или ввосьмером. Ты это имеешь в виду?
— Нет. Это не помогло бы. Он сильнее нас.
— А что мы могли сделать еще? Сказать ему, чтобы он успокоился? И не делал глупостей?
Бухер не отвечал. Он знал, что говорить с Хандке было бесполезно. 509-й с минуту наблюдал за ним, потом сказал:
— Слушай меня внимательно… У Вебера нам нечего было терять. Мы отказались и вопреки всякой логике почему-то остались живы. Но если бы мы сегодня попытались как-нибудь помешать Хандке, он угробил бы еще двоих-троих, а потом донес бы на весь барак. Бергера, а с ним еще пару человек повесили бы как главных мятежников. И Вестхофа, конечно, в первую очередь. Тебя скорее всего тоже. Следующий шаг — лишение пищи на пару дней. Это означало бы еще с десяток трупов. Согласен?
Бухер, помедлив, нехотя ответил:
— Не знаю.
— Ну а как еще могла закончиться эта история, если не так, как я тебе описал? Ты можешь придумать другой конец?
— Нет, — ответил Бухер, подумав с минуту.
— Я тоже не могу… У Вестхофа был приступ коллера. Как и у Хандке. Если бы он сказал то, что хотел от него Хандке, он отделался бы двумя-тремя синяками. Он был неплохим товарищем и мог бы принести еще много пользы. Но вел себя, как шут. — 509-й повернулся к Бухеру; в голосе его звучала горечь. — Ты думаешь, только ты один жалеешь о том, что случилось?
— Нет.
— Может быть, он держал бы язык за зубами и остался бы жив, если бы мы не вернулись, если бы Вебер доконал нас. Может быть, именно поэтому он забыл про осторожность. Тебе это не пришло в голову?
— Нет. — Бухер испуганно уставился на 509-го. — Ты действительно думаешь?..
— Не знаю. Может быть. Я видел, как люди совершали и не такие глупости. Люди, до которых Вестхофу — далеко. И чем лучше люди, тем удивительнее глупости, которые они совершают, когда им кажется, что надо проявить отвагу. Эта проклятая хрестоматийная чушь!.. Ты знаешь Вагнера из 21-го барака?
— Да.
— Теперь это развалина. А когда-то был мужчина. Смелый. Даже слишком смелый. Он давал сдачи. Целых два года эсэсовцы не могли на него нарадоваться. Вебер почти любил его. А потом он сломался. Навсегда. А ради чего? Он бы нам сейчас очень пригодился. Он не мог совладать со своим мужеством. Таких было много. Из них осталось — раз-два и обчелся. А тех, кто еще на что-то способен, и того меньше. Поэтому я и держал тебя сегодня вечером, когда Хандке топтал сапогами Вестхофа. И поэтому же я ответил ему на вопрос, кто мы, так, как он хотел. Понял ты это наконец или нет?
— Ты думаешь, что Вестхоф…
— Теперь уже все равно. Вестхофа больше нет…
Бухер молчал. Теперь, когда завеса тумана немного приподнялась, а кое-где сквозь нее даже сочился лунный свет, ему стало лучше видно 509-го. Тот уже сидел. Лицо его было раскрашено кровоподтеками в черный, синий и зеленый цвета. Бухеру вдруг вспомнились все те услышанные ими от кого-то старые истории о 509-м и Вебере. «Да ведь он сам один из тех, о которых только что рассказывал», — подумал он.
— Слушай, — вновь заговорил 509-й. — Слушай внимательно. Это всего лишь дешевая фраза из плохого романа — что дух нельзя сломить. Я видел людей — настоящих людей, — которых они превращали в кричащих от боли животных. Почти любое сопротивление можно сломить; это вопрос времени и условий. У этих — он махнул рукой в сторону эсэсовских казарм — есть и то, и другое… Они это всегда прекрасно знали. И никогда не отказывали себе в этом удовольствии. Пойми: главное — результат сопротивления, а не то, как оно выглядит. Безрассудная храбрость — это самоубийство. Эти наши жалкие крохи непокорности — это все, что у нас осталось. Мы должны запрятать их так далеко, чтобы они не могли их найти, и пользоваться ими только в случае крайней нужды, как мы это сделали у Вебера. А иначе…
Лунный свет незаметно подкрался к Вестхофу, скользнул по мертвому лицу, пополз по шее.
— Кто-то из нас обязательно должен уцелеть, — прошептал 509-й. — Ради того, что будет потом… Нельзя, чтобы все оказалось зря. Кто-то должен остаться. Кого еще не сломали…
Он в изнеможении откинулся назад. Мысли изнуряли так же, как ходьба. Обычно голод и слабость не давали сосредоточиться. Но иногда сознание неожиданно прояснялось, в голове появлялось ощущение удивительной легкости, все казалось предельно доступным, и некоторое время можно было видеть далеко-далеко вперед, пока вновь не опускался туман усталости.
— Кто-то, кто еще не сломан и не хочет ничего забывать…
509-й посмотрел на Бухера. «Он на двадцать лет младше меня, — подумал он. — Он еще многое мог бы успеть. Он еще не сломан. А я?.. Проклятое время!.. Гложет и гложет!.. И только выбравшись отсюда, можно будет понять, чту от тебя еще осталось. Только выбравшись отсюда и попробовав все начать сначала, можно действительно понять, сломан ты или нет. Каждый год из этих десяти лет, проведенных в лагере, равен двум, а то и трем годам на свободе. Откуда же тут взяться силам? А сил понадобилось бы много».
— Никто не упадет перед нами на колени, если мы выберемся отсюда, — произнес он вслух. — Они станут все отрицать и постараются поскорее все забыть. И нас в том числе. И многие из нас — тоже захотят поскорее все забыть.
— Я не забуду это, — мрачно заявил Бухер. — Ни Вестхофа — ничего!
— Хорошо. — Волна усталости накрыла его с головой. Он закрыл глаза, но тотчас же вновь открыл их. Он должен был высказать еще кое-что, пока не забыл. Бухеру полезно было это узнать. Может, он будет единственным из ветеранов, кому посчастливится выжить. Он должен знать это.
— Хандке — не нацист, — с трудом проговорил он. — Он такой же заключенный, как и мы. На свободе он скорее всего никогда не убил бы человека. А здесь он делает это, потому что ему позволяет это его власть. Он прикрыт. Он не несет никакой ответственности. Вот в чем дело. Власть — и отсутствие ответственности, слишком много власти в руках преступников, слишком много власти вообще, в каких бы то ни было руках, понимаешь?